PRO DOMO SUA: Несколько слов о Православии и патриотизме
Кто мы: патриоты своей земли или граждане неба? Может ли христианин любить свою родину – и какова мера этой любви? Об отечестве земном и Отечестве Небесном размышляет монах Диодор (Ларионов), православный издатель и переводчик. Его очерк о «православном патриотизме» – это лишь первая часть диптиха, посвященного участию Церкви в жизни современного общества. Вскоре будет опубликована и вторая часть, посвященная социальному служению Церкви.
В рамках подобных представлений многие сегодня рассматривают и отношение Церкви к идее патриотизма и к государственным институтам. Само понятие патриотизма вводится ныне в круг христианского мировоззрения, получает «богословское» обоснование: как и в других подобных случаях, естественное чувство любви к своему земному отечеству здесь выдается за христианскую любовь к ближнему и к Христу.
Однако сегодня не так часто вспоминают, что христианская Церковь с самых первых лет своего существования не то что не мыслила подобного отношения к государству, в котором она находилась (Римская империя), но и противопоставляла свое «общежитие» общежитию гражданскому (богословские основы такого подхода обсуждаются в нашей следующей статье[3]). Ее патриотизм был патриотизмом небесного отечества, а ее гражданство — небесным гражданством. Мы не имеем здесь пребывающего града, но небесного взыскуем (Евр. 13, 14). Сама Церковь представляла собой «новый град» и «новое государство», подданными которого верующие себя считали: их истинный Владыка — Христос, в Которого они облеклись и Которому дали клятву верности до смерти. Ориген, объясняя язычнику Цельсу отношение христиан к государству, сказал кратко и точно: «У нас другой строй подданства»[4]. В таком же духе мыслит и св. Григорий Богослов: «Для меня равны и отечество и чужая страна, и переселение для меня — не более, как переход с одного чужого места на другое, не мое»[5]. Обобщая картину положения ранней христианской Церкви в Римской империи, прот. Георгий Флоровский замечает: «Христиане старались держаться подальше от забот государства, а оно переживало по настоящему критический период, борясь за свое существование. В некотором смысле Церковь была движением сопротивления в Империи, а христиане — саботажниками»[6]. Наиболее выдающиеся государи, возвеличившие и укрепившие свои государства, прекрасно это понимали, поэтому в интересах своих империй они либо устраивали гонения на христиан (Марк Аврелий, Диоклетиан), либо стремились подорвать Церковь до такой степени, чтобы она стала безопасной игрушкой в руках государства (Петр Великий).
Однако неправильно было бы думать, что такое сознание Церковь имела только в первые века своего существования, в эпоху гонений. Во времена заката Византийской империи, в середине XV века, когда полчища турок-османов уже осаждали Константинополь, патриарх Константинопольский св. Геннадий Схоларий (1405-1464) написал такие слова: «Будучи по своему языку греком, я никогда не сказал бы, что я — грек, потому что я не мыслю таким способом, каким мыслили некогда греки; больше всего я хочу называться [именем] моей собственной славы, поэтому если кто спросит меня, кто я, я отвечу, что я — христианин»[7].
Как известно, византийские исихасты во главе со св. Григорием Паламой (1269-1359) и их непосредственные преемники во главе со св. Марком Эфесским (1391-1450), перед которыми особо остро стояли вопросы сохранения отечества путем некоего компромисса с верой Церкви, никоим образом не считали такое решение приемлемым. В эпоху, предшествовавшую греческому восстанию 1821 года, преемники византийских исихастов по духу и по миропониманию «блаженные колливады» — святитель Макарий Коринфский (1731-1805), прп. Никодим Святогорец (1749-1809), прп. Афанасий Паросский (1725-1813) и святой патриарх Григорий V (1745-1821), чье имя стоит особого упоминания — все они вновь столкнулись с волной патриотизма и национального возрождения. Это возрождение черпало свое вдохновение в освободительных идеях французской революции и эпохи Просвещения, которые повлияли на национальные движения во многих странах (в том числе и в Греции). Перенесенные в церковную сферу, они породили стремление к образованию Поместных Церквей исключительно на национальной основе — явление, названное Константинопольским собором 1872 года «ересью филетизма». Так вот, колливады не только не одобряли «националистических» идей современников, но и выступали против освобождения своего народа от власти турок путем восстания. И наоборот, противоположную, так сказать «патриотическую», позицию как в эпоху падения Византии, так и в эпоху национального восстания в Греции занимали как раз гуманисты и просветители. Среди первых упомянем Димитрия Кидониса (1324-1397), среди вторых — Кораиса (1748-1833) и Фармакидиса (1784-1860), принесшего неисчислимые беды Греческой Церкви. И не случайно имена св. Григория Паламы и св. Геннадия Схолария, прп. Афанасия Паросского и священномученика патриарха Григория V многими греческими патриотами называются в числе «предателей отечества».
Таким образом, никакие социально-политические условия не помешали Церкви в течение XVIII веков жить в единодушном понимании своей «социальной позиции», соблюдая настороженное и подчас строгое отношение к проявлениям патриотизма. И уж никто никогда не доходил до такого абсурда, чтобы выдавать патриотизм за церковное учение. Однако, обращаясь к той ситуации, которую можно наблюдать сегодня, мы сталкиваемся с другим «настроем» и другими приоритетами.
Особенно ярко это сказывается в том, как относятся многие современные верующие к святым воинам и государственным деятелям, как древним (св. благоверный князь Александр Невский или св. Димитрий Донской) так и более близким нам по времени (св. воин Феодор Ушаков). Почитая вместе со всей Церковью этих святых, мы, тем не менее, хотим отметить, что, судя по той обширной литературе, которая им посвящена, сегодня среди большинства верующих абсолютно потеряно представление, в чем собственно состоит их святость и в чем она должна состоять у православных святых. Святость, будучи совершенным (насколько это возможно на земле) осуществлением личного спасения, понимаемого как достославное и сверхъестественное обожение человеческой природы, достигается, прежде всего, личным духовным очищением и покаянием. Она никак не может быть следствием любви к отечеству или успешности военных кампаний. Помимо этого, святость святых выражает вселенскую веру Церкви;следовательно, жизнь святых есть внутреннее опытное развитие и воплощение ее догматического и литургического богословия.
Церковь, по определению Первого Вселенского Собора, едина и кафолична — она обладает соборностью. Поэтому ее богословие превосходит все границы и пределы земного мира. «Кафоличность православного богословия состоит в том, что оно принимает во внимание всех, везде и всегда. Оно заботится о спасении всех и каждого, потому что имеет сознание космического измерения личности и личностного измерения космоса. Это является подтверждением его свободы от всякой необходимости и доказательством того, что в кафоличности православного богословия могут достичь спасения все»[16]. Молитва за мир, которую имели святые, и есть практическое выражение этого богословия.
Будем ли мы по мере сил приближаться к такой любви, которая возвышает нас до созерцания новой реальности, где, по словам Апостола, всяческая и во всех Христос (Кол. 3, 11), или нам будет достаточно нашей маленькой, частной любви, ограничивающей наш мир нашим родным домом? Сможем ли мы вместить в себя ту реальность, которую Воплотившийся Бог принес на землю и стать новыми людьми, по образу Создавшего нас Бога (Кол. 3, 10), или же мы обречем себя на жизнь осужденных на смерть животных? Изберем ли мы своим главным жизненным ориентиром ту страну живых (Пс. 114, 8), к которой направлено все наше земное странствование, или решим, что наша истинная жизнь совершается здесь, в этой «стране мертвых»?[17]
http://pr-daniil.livejournal.com/40420.html?thread=739812#t739812




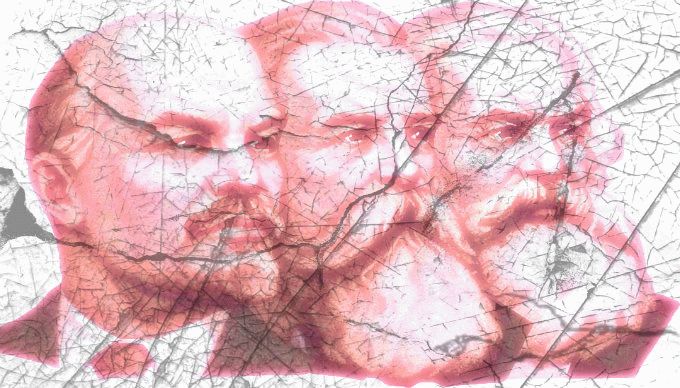

![964[1]](https://i2.wp.com/orthoview.ru/wp-content/uploads/2015/04/9641.jpg?resize=620%2C409&ssl=1)



